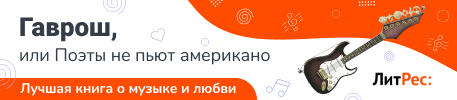Фроленко и Поливанов перенесли цынгу, но ряд народовольцев умерли от этой страшной болезни.
«С другого коридора из ближайшей камеры, — вспоминает Фроленко (*201 прим.), — стали доноситься подозрительные фразы доктора и Соколова: «Еще жив!.. Протянет!». Начали следить, чутко прислушиваться по ночам. Жандармы заходят в соседние камеры как-то подозрительно скоро и уходят. Ночной шорох еще более пугает и заставляет внимательнее следить за уловками Соколова.
— Пусто! Нет больше и Баранникова! — объявляет вдруг мой сосед, сидевший ближе к другому коридору.
— Да, — отвечаю, — и мне показалось, что к нему не заходили сегодня !
С тем коридором, где сидел Баранников, Тетерко и проч., у нас не было сношений: мешала большая ванная комната.
Догадкам по лекарству на окне, по маневрам жандармов много помогала и та острая напряженность внимания и слуха, которая развивается в тюрьме.
Вначале, когда еще товарищи все стояли живо перед глазами в том виде, как я их видал на суде, и в голову не приходила мысль о чьей-либо скорой смерти. Живыми, бодрыми, здоровыми рисовались они в памяти. Но вот умирает Клеточников. Для меня это было неожиданностью... Смерть эта вспугнула беспечность, повернула мысль в другую крайность. Явилась особенная, обостренная боязнь за жизнь каждого, особенно за тех, про которых ничего нельзя было узнать. Лично о себе как-то не думалось, мне почему-то всегда казалось, что я выживу еще год, как я определил раз в разговоре с соседом. Зато в каждом шорохе, в каждом необычном звуке чудилась мне смерть других, насилие, ужасы. Являлось неодолимое, мучительное желание проникнуть туда, дать умирающему хоть минуту провести с близким человеком.
Сама смерть тогда не казалась такой тяжелой, ужасной. Но так давила эта тишина, эта полная отчужденность от мира, от живых людей. Завели человека в пустыню, в непроходимый лес и бросили... Напрасно всматривается он вдаль, кругом нет ни души! Жуть и страх невольно охватывают душу...»
Еще драматичнее рассказы Поливанова о смерти его соседа Колодкевича (*202 прим.).
«21 июля я поздравил Колодкевича с днем рождения и пожелал ему много, много хорошего, между прочим, чтоб на следующий год мы могли праздновать этот день на воле. — «О, если б вы были пророком!» — ответил он и, сердечно поблагодарив меня, сказал, что ему очень бы хотелось, выйдя на волю, прокатиться со мной по всей Волге вплоть до Астрахани, потому что он никогда не видал Волги. Очень мило и задушевно поболтали мы с ним, но на следующий день я заметил по стуку его костылей, что он ходит и мало и плохо, а вечером он меня огорчил тем, что, по его выражению, снова у него ноги начали «дурить»; на следующий день он уже не мог вставать с постели, и в течение дня доктор приходил к нему два раза. Утром на третий день Колодкевич умер тихо, без всяких стонов — словно заснул и не проснулся.
Все эти дни я с напряженным вниманием прислушивался ко всему, что делалось в камере, и каждое утро я обязательно прикладывал ухо к стене, улавливая каждый стук, каждый шорох. В это утро к нему вошли —и наступила тишина. Из камеры ничего не выносили, на стол ничего не ставили. Послышались только шаги одного человека — Соколова — подошедшею к кровати и молча отошедшего. Я просто затрясся от волнения, которое еще более усилилось, когда вошли ко мне, и я увидел в лице Соколова какое то смущение, какой то проблеск человеческого чувства; он смотрел растерянно и избегал встречаться со мной глазами. Я стал наблюдать за коридором, постоянно также подходил к стене; минут через 20 я услышал знакомую походку доктора, который вместе с Соколовым вошел в № 16. Пробыли там они недолго и молча ушли.
Словом, повторилось то, что было при смерти Баранникова: точно так же привели солдат, которые унесли тело, затем камеру убрали, вынесли из нее все, судя по стукам, кроме мебели. За обедом туда унтера не заходили.
Странно, что, несмотря на всю несомненность ужасного факта, я питал какую-то безумную надежду, что я ошибся, что все это мне послышалось. Я несколько раз в течение дня подходил к стене и выстукивал все громче и громче: «Николай, Николай!»
Не получая ответа, я начинал его умолять, чтоб он, если не может подойти к стене, сделал бы какой-нибудь знак: ударил бы кружкой по столу, стукнул бы в пол костылем, и, прождавши некоторое время ответа, я бросался на кровать и, чтоб жандармы не услыхали моих рыданий, утыкался головой в подушку и плакал, как ребенок».
Но, кроме смерти, узников преследовали и другие ужасы (*203 прим.): «среди гробовой тишины вдруг раздался отчаянный крик погибающего человека. За криком последовала короткая возня — борьба, и слышно было, как что-то тяжелое пронесли по коридору. Что такое? Бьют кого? Или сошел кто с ума? От сознания своего бессилия слезы заполнили глаза... Являлось желание ломать руки, кричать, неистовствовать, разбить себе голову... Но какая польза? спрашивал разум. Соколов, видно, понял наше состояние и не скрыл. «Сошел один с ума, увезли в больницу», — ответил он и, действительно, это был карийский Игнатий Иванов. Его возили в Казань...
| Предыдущая страница | Следующая страница |