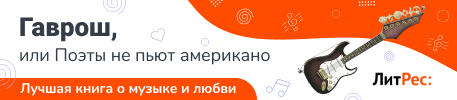Однажды, осматривая кровать мою, старую, расшатанную временем уже, я заметил в одном углу ее торчащий гвоздь, взявшись за него, я увидел, что он сидит не очень крепко, его можно с усилием расшатать и вытащить. Гвоздь этот казался мне вещью полезною в моем положении: как орудие самозащиты и самоубийства в случае уже невозможности перенести неизвестное, ожидаемое мною. Я ухватил его крепко и шатал и тянул с роздыхами до тех пор, пока не вытянул. Гвоздь оказался длинным с палец и толстым с птичье перо. У меня ничего не было, и гвоздь этот составлял для меня ценную вещь, и он мне оказался не бесполезным. Первое употребление, которое я извлек из него — это чистка ногтей несколько раз в продолжение дня.
По извлечении его, он почти не выходил у меня из рук. Я его тщательно прятал от взоров сторожей и входивших ко мне ежедневно для подачи пищи офицеров и служителей. Стоя на окне у фортки, я точил его о железную решетку или слегка затуплял его, смотря по расположению духа... Большую часть дня стал я проводить, стоя на окне, носом в фортку. Сторож, присматривающий в наши кельи, редко исполнял свою обязанность. Иногда, увидав меня стоящим на окне, он стучал и говорил: «Сойдите с окна», я сейчас же сходил, но потом вскоре опять вспрыгивал на площадку окна и стоял, пока не уставал. Наконец, и сторожа, все одни и те же, уже привыкли к нашим безвредным привычкам и, внося пищу столько раз и не получая ни от нас ни через нас никаких неприятностей по службе, считали нас уже как бы своими людьми, которых обижать без надобности не следует, и эти напоминания о схождении с окна совершенно прекратились.
Офицеры, посещавшие нас, которых было всего три, вначале бывшие с нами совершенно бессловесными, стали более внимательны к нам и не так молчаливы и безучастны. Один из них на просьбу мою, нельзя ли получить какую-либо книгу для чтения, предложил мне сначала имеющуюся у него в распоряжении библию, которую я и просил принести мне, а потом он достал мне вскоре и другую книгу, один из старых журналов — кажется, «Отечественные Записки». На эти книги я набросился с жадностью я читал... Однажды вечером залетел ко мне в форточку табачный дым, и запах этот, которого я давно не слыхал, был мною воспринят с особым удовольствием, и при первом отворении двери я спросил об этом дежурного офицера. Он очень любезно ответил, что курение дозволяется, но только на свой счет. Я сказал, что в день ареста у меня был в кармане кошелек с несколькими рублями, и просил его купить мне какую-нибудь простую небольшую трубку — тогда папирос еще не было — и Жукова табаку. Желание это было исполнено в тот же день: не помню я, какая трубка у меня была, но 1/4 фунтовую, в синей бумаге, пачку знаменитого желтого «Жукова кюстеру» едва ли кто из куривших его в прежние времена может забыть... Как бы мне ни было тоскливо и отвратительно на душе, но, набив трубку милейшим табаком и потянув его, я почувствовал как бы разлившееся по жилам моим приятнейшее ощущение... Скоро мне было предложено написать письмо родным и просить их прислать книг и все, что нужно для развлечения. По написании же бумага и чернила были отобраны, корреспонденция отдавалась открытою. Я, конечно, с радостью воспользовался этим, и вот мне в скором времени присланы были книги, которые я желал. Я получил несколько частей сочинений Гёте, некоторые романы ВальтерСкотта, Comedies de Моlieге и другие, которые я теперь не помню. Вместе с этим мне было сообщено, что получены деньги для моих издержек, присланы фрукты и конфекты. В одно утро, стоя у форточки, я услышал тихий разговор справа от меня сидящего с заключенным своим также правым соседом. Я вслушивался, но слов разобрать не мог — амбразура, оконное углубление каменной стены было глубиною более полуаршина, непосредственно за рамою окна на расстоянии вершков двух была вбитая в камень решетка, да и высунуться головою из маленькой форточки было невозможно.
Как я ни вслушивался, но слов расслышать не мог. Слыша, однако же, как соседи мои беспрепятственно мило беседуют, и я, наконец, тихим голосом обратился к моему соседу — и от него сейчас же получил ответ. Фамилия его была Щелков, моя сделалась ему известна также. Я узнал от него, что подле него сидит такой то — не помню, кто, а за ним Дебу старший. Мы начали разговаривать тихо, и так бы, может быть, продолжалось все время, пока мы сидели рядом, но вдруг слева от меня кто-то громко назвал меня по фамилии, и часовой, ходивший около окон, закричал: послать ефрейтора, и затем произошли на дворе переговоры стража. Этим прекратились все наши дальнейшие попытки к тихой беседе. Наши невинные обращения одного к другому, могущие нам доставить истинное утешение в одиночестве, не остались без последствий. В суде в этот раз на меня напустился со всею военного строгостью комендант Набоков. Затем, после допроса о том, с кем я говорил и о чем, и после полученных от меня во всем отрицательных ответов, что разговора еще не было, но была только попытка разговора, и что я даже не знаю, с кем —мне сказал князь Гагарин, что фортка моя будет запечатана. Мне было ужасно услышать это, и я с горячностью возразил:
— Да разве возможно запечатать фортку? — ведь я же задохнусь!
— Невозможно? А разве фортка у вас для разговоров?
— Я обещаю, что более не буду говорить, а фортку прошу мне оставить, я без воздуха жить не могу.
— Вы довольны своим помещением? — спросил у меня гневным тоном Набоков.
Я не знал, что отвечать на такой неожиданно поставленный мне вопрос, но чувствовал, что надо ответить утвердительно.
— Надо быть довольным, — сказал я тихим голосом.
— В крепости у меня есть куда вас посадить — такие места... — тут он не договорил, — там не будете разговаривать!
Существовали ли в действительности в 1849 г. такие места в Петропавловской крепости или слова эти были сказаны только для устрашения меня, но они на меня произвели сильное впечатление… Наступил уже июль, не помню в точности, какой это был день, кажется, в первых числах, когда однажды под вечер в сумерках я выглядывал своею замученной рожею из фортки, а часовой, прохаживаясь взад и вперед, всякий раз смотрел мне в лицо, как бы вызывая на разговор. Я был желт и худ, и волосы длинные висели ниже головы. Я смотрел на часового тоже и, видя его, казавшееся мне несомненным, сочувственное участие, не мог не заговорить: «Теперь не жарко, как днем? — спросил я его тихим голосом». — Тут ничего, а вот придется надеть ранец и идти в поход...
«Куда же в поход? — спросил я удивленный.
— На венгра, в Австрию, туда уже много наших пошло.
«А что же там, воюют немцы?
— Немцы и венгры бунтуются, так их усмирять пошли.
«А царь в городе?
— Нет, и он тоже при войсках... А может быть и в Варшаве.
А вы давно посажены сюда?
«Я с апреля месяца.
— Ого! Давненько! — сказал он, всматриваясь в меня.
| Предыдущая страница | Следующая страница |