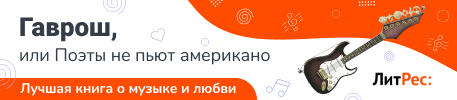Наконец, приведем выдержки из воспоминания А. Беляева — так сказать рядового декабриста, не выделявшегося ничем из общей среды. Более чем вероятно, что его содержали так, как содержали большинство декабристов (*149 прим.): «Является строй солдат, нас ставят между двух рядов, и мы выходим, через двор, на набережную; тут является полувзвод кавалерии, казаки едут по сторонам, и все спускается на Неву.
Помню, была лунная, морозная ночь; тишина нарушалась только шагами марширующих солдат и топотом казачьих лошадей. Кроме нас, тут были еще капитан военных топографов Свечин, Цебриков и еще другие, кого не помню. Настроение наше, т.е. мое, брата, Дивова, Бодиско, было очень беззаботное, так что, когда нас ввели в Невские ворота Петропавловской крепости, у меня вырвался стих:
«На тяжких вереях ворота проскрипели
И песнь прощальную со светом нам пропели».
Нас привели в дом коменданта и ввели в какую-то уединенную комнату, при весьма слабом освещении. Мы взглянули друг на друга и передали друг другу свои опасения, полагая, что нас привели сюда для пытки. Ожидание продолжалось недолго. Вдруг мы услышали стук деревяшки по лестнице, и перед нами явился генерал Сукин, комендант крепости. Он, сурово осмотрев всех нас, произнес: «Я имею высочайшее повеление принять вас и заключить в казематах». С этими словами является плац-майор Подушкин и с помощью плац-адъютанта разводит нас по разным направлениям, по разным казематам. Меня, брата, Бодиско и Дивова ввели в огромное под сводами помещение в лабораторном дворе с одним окном на Неву и огромною русскою печью в углу, на которой, как и на всех стенах, видна была полоса, указывавшая, как высоко стояла вода во время наводнения 1824 года.
Когда сторож поставил зажженную лампадку, мы увидели тараканов, черных и красных, в таком количестве, что все почти стены были ими покрыты. Это нас привело в ужас, и будь тут заключен кто-нибудь один, то эта обстановка должна бы была потрясти непривычного. Но нас было четверо молодых 20 летних юношей, приятно убедившихся, что все члены их, после свидания с Сукиным, оказались целы, и потому мы стали придумывать брустверы из соломы, которую принес сторож для нашего ложа. Тут же была, конечно, поставлена кадка, значение которой объяснить неудобно.
Несмотря на все впечатления, перечувствованные в этот день, мы спали крепко, и во все время нашего заключения вместе мы были беззаботно веселы. Для развлечения своего из хлеба мы сделали себе шахматы, на столе сделали клетки и играли в шахматы, в эту умную игру, с большим удовольствием. Из нашего окна, выходившего на Неву, мы посматривали на проезжающих по реке и набережной. Но это отрадное совокупное заключение с братом и друзьями товарищами скоро должно было прекратиться. В один вечер, поздно, является к нам плац-майор Подушкин и объявляет, что нам надо распроститься друг с другом. Один должен был остаться в том же каземате, а как по привычке к старому и по страху к неизвестному, каждый из нас хотел бы остаться в прежнем, то решили бросить жребий, и в старом каземате остался мой брат. Разлука была тяжела, так что, несмотря на то, что мы считали себя стойкими, должны были глотать слезы, заключив друг друга в братские объятия.
С тех пор мы уже не виделись до того времени, как нас соединили для прочтения нам сентенции. Меня перевели в какой-то каземат, не знаю, в какой, местности, в четыре шага величиною, немного больше гроба, и заключили одного. Тут была страшная сырость, а утром топили железную печь, которой труба проходила над головою. Так как мне было только 22 года и сложение мое не было из крепких, то при посещении казематов как-то генерал-адъютантом Стрекаловым, нашли нужным меня перевести.
Ночью помощник плац-адъютанта повел меня по каким-то дворам и переходам мимо царских склепов, как он сказал мне, к Невским воротам, и меня заключили в каземат Невской куртины, также в 4аршинное пространство. Тут уже в углу стояла кровать с шерстяным одеялом, подшитым простыней, стоял небольшой стол в углу, и на нем лампадка с фонарным маслом, копоть от которого проникала в нос и грудь, так что при сморкании и плевании утром все было черно, пока легкие снова не очищались в течение дня. Огромное окно в этом каземате было замазано известкою, только оставалось не замазанным одно верхнее звено.
Утро мое начиналось том, что я, встав с постели и умывшись над парашей (*150 прим.) (кадкою), молился Богу, по обычаю, потом я громко пел «Коль славен наш Господь в Сионе», а после того, как выпивал принесенную кружку чаю, я начинал ходить по каземату и тут уже я пел всевозможные романсы, какие только знал; в числе их попадались часто и весьма свободные. Так время проходило до обеда. Утром обыкновенно приходил инвалидный солдат, приставленный к казематам, выносил кадку, а затем он же приносил чай и уходил до обеда… Я не думал, чтоб это следствие протянулось более 8ми месяцев. Но по мере того, как дни проходили за днями и тянулись страшно, отмечаемые каждую четверть часа заунывными курантами башенных крепостных часов, которых один звук уже производил содрогание, тоска усиливалась, терпение и спокойствие истощались, сердце выболело, мысли мешались, и я уже был близок к погибели, т.е. к сумасшествию. Но вот в это самое время приносят мне огромную in folio книгу. Смотрю — это библия! Я с жадностью схватился за нее, читая и перечитывая ее. Вот где было мое спасение!...
... В эти тяжкие минуты, когда отчаяние сторожило свою жертву, я был до того разбит физически и нравственно, что кровь хлынула у меня горлом. Ко мне стал ходить доктор и приказал выводить меня на воздух. Эти прогулки ограничивались какими-то сенями, где было огромное окно без рамы и дверь без дверного полотна и куда воздух проникал свободно. Но однажды повели меня на стены крепости, откуда вдруг открылась передо мною давно забытая картина этого мира с его движением и суетой... В моей казематной жизни все было рассчитано. Я ходил два часа, потом садился на кровать отдыхать и в это время, чтоб быть чем-нибудь занятым, я выдергивал из одеяла бесконечную толстую нитку, которою простыня пристегивалась к одеялу.
Из этой нитки я навязывал узлы один на другой, так что под конец образовывался порядочный клубок, который затем снова распускал; эта работа повторялась несколько раз в день. Потом становился на окно и смотрел на проходящих. Так как мой каземат был недалеко от Невских ворот и вплоть до комендантского или какого-то дома, хорошенько не знаю, шел бульвар, то тут часто проходили мимо меня различные лица. Иногда проводили мимо меня узников в баню, и я однажды увидел моего брата, но он, конечно, не мог догадаться, что на него смотрел его брат и друг, которого сердце забилось... Часто также утешала меня игра детей на бульваре, которых голоса были для меня истинной музыкой. После скудного обеда, состоящего из горячего и маленьких кусков жареной говядины, я ложился спать. Около 6 часов приносили большую кружку чая с белым хлебом. Так протекли дни до решения нашей участи».
Можно, конечно, увеличить число примеров выписками из других воспоминаний, но они не дадут ничего нового, все это будут лишь незначительные вариации. Нужно только привести описание тех казематов, которые были выстроены «из совершенно сырого леса и которые помещались в крепостных амбразурах. Эти клетки были так тесны, что едва доставало места для кровати, столика и чугунной печи. Когда печь топилась, то клетка наполнялась непроницаемым туманом, так что, сидя на кровати, нельзя было видеть двери на расстоянии двух аршин. Но лишь только закрывали печь, то делался от нее удушливый смрад, а пар, охлаждаясь, буквально лил потоком со стен, так что в день выносили по двадцати и более тазов воды» (*151 прим.). Описание, действительно, потрясающее, но, к сожалению, оно принадлежит Д. Завалишину, и поэтому нельзя быть уверенным, правда ли это или фантазия.
| Предыдущая страница | Следующая страница |