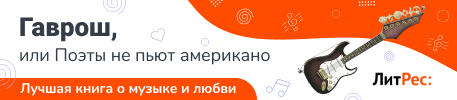Второй момент в жизни заключенного Поливанов передает в следующем картинном описании (*186 прим.): «Надо раздеться», — обратился Домашнев ко мне.
Меня обступили вошедшие вслед за нами присяжные и жандармы, и при помощи дюжины умелых рук через две минуты я остался в чем мать родила. Один взял мою шляпу и передал ее другому, тот третьему, и в один миг она исчезла из камеры.
В то же время, один тащил с меня пальто за левый рукав, другой — за правый, третий стал на одно колено и снимал с меня штиблеты. Я поразился быстротой и отчетливостью, с какой все это делалось; не было ни суетни, ни толкотни, ни излишней поспешности, а дело так и кипело. Видно было, что это дело им очень знакомо, и в нем выработались свои определенные приемы.
Когда я был совершенно раздет, то две пары дюжих рук легли ко мне на плечи, и я опустился на стул, неведомо откуда появившийся. Тут началась последняя и, вместе с тем, самая тяжелая, самая унизительная часть обыска. Один стал перебирать мои волосы гребенкой и пальцами, другой искал, не запрятано ли что-нибудь между пальцами ног, третий полез мне в ухо, а двое, держа меня за руки, шарили под мышками. Искали словом везде, где только можно было предположить какую-либо контрабанду.
Я никогда бы не поверил, что служебное рвение может простираться так далеко... При первом прикосновении жандармских лап, у меня потемнело в глазах, и я видел только рой каких-то блестящих точек, прыгающих по всем направлениям. Да, встряска была порядочная!».
Момент третий (*187 прим.) — «После обеда, когда я спал крепким сном, меня разбудил присланный: «Вам надо постричься», — сказал он весьма вежливым тоном. Я изумился. «Что это значит? Ведь я никому не говорил, что хочу стричься. Неужели здесь завели такой порядок, что всех обязательно стригут, как в бурсах старого времени всех секли по субботам», — подумал я спросонья.
Вставши с постели, я увидел, что посреди комнаты поставили стул. Около него присяжный с салфеткой в руках, а сзади целая орава человек 5— 6. Я опустился на стул, присяжный повязал мне салфетку, а двое встали у меня по бокам, вплотную, установив глаза на мои руки, сложенные на коленях. Присяжный запустил в волосы гребенку, стригнул, и я вздрогнул всем телом, почувствовав прикосновение холодного железа. Сразу было видно, что стригут наголо. Я делал над собою большие усилия, чтобы казаться равнодушным и спокойным, но это было мне трудно. Я боялся, чтобы эти скоты не уловили выражения боли и волнения в моих глазах, а потому закрыл их.
Сколько времени продолжалась эта пытка— не знаю. Конечно, весьма недолго, но каждая минута казалась мне веком, и всякий раз, когда ножницы касались кожи, по телу точно электрический ток пробегал, и сердце болезненно сжималось. Значит, я еще не испил всей чаши унижения, думалось мне, что-то предстоит за тем? будут брить? — закуют? — что тогда? только скорей, скорей!
Конечно, я знал, решаясь на борьбу с правительством, что за это по головке меня не погладят, нельзя же думать, что государственный и общественный строй, созданный вековой работой истории, окажется лишенным чувства самосохранения, что он уступит натиску своих врагов без борьбы, что он не будет давить и истреблять, — но есть вещи, которые вовсе не являются неизбежным результатом борьбы, даже борьбы на жизнь и смерть.
Понятно, что врага убивают, казнят, что его лишают возможности вредить, запирают в тюрьму, ссылают. Все это вещи вполне естественные, которых нужно ждать, к которым нужно быть готовым. Смертный приговор, вполне мною заслуженный, не мог меня возмущать, но то, что не имеет никакого другого смысла, кроме издевательства над пленным врагом, подлого, низкого надругательства,— возмущает меня до глубины души; какой смысл уродовать человека, сидящего за семью стенами, под семью запорами, под бдительным надзором? Побег здесь немыслим, а если бы и был возможен, то при таких условиях, в которых бритая голова не будет иметь никакого значения...
А ножницы все лязгают, и каждый раз с головы скатывается новая прядь моих бурных кудрей. Наконец, ножницы щелкнули в последний раз, присяжный отошел в сторону, точно желал полюбоваться образцом своего парикмахерского искусства, и сказал: «Ну, готово!» Я еще не вполне пришел в себя и продолжал сидеть в каком то оцепенении, пока присяжный не снял с моей шеи салфетку, а кто-то сзади потянул из-под меня стул.
Я встал и остановился, как вкопанный. За моей спиною хлопнула дверь, я остался один, но все-таки не сразу мог притти в себя и двинуться с места. Наконец, я решился провести рукой по голове, и рука встретила едва возвышающуюся над кожей жестокую колючку. Я пошел было, но тотчас же остановился: голову охватил какой-то порыв холодного ветра. Конечно, кожа, привыкшая быть под покровом густых волос, не могла освоиться сразу с непосредственным прикосновением воздуха, и первое время мне было очень неприятно. Брить меня, как я этого ожидал, не стали, да и надобности в этом не было: так чисто оболванили мою «победную головушку». Как я себя чувствовал тогда, всякий легко может себе представить».
Наконец, заключенный обыскан, острижен, переодет в казенную одежду, все из камеры вышли, двери захлопнулись (*188 прим.) — «дверь запиралась сначала на ключ, а потом дверь закрывалась поперек всей ширины ее железным засовом в ладонь ширины, который таким образом закрывал замочную скважину; один конец этого засова был укреплен на шарнире в углублении, сделанном в углу стены, а другой надевался на пробой, вделанный в противоположный косяк; затем в этот пробой вдевалась дужка массивного замка, такого, каким запирают амбары и сараи; отпирание и запирание двери производилось с таким громом, что мертвых бы разбудило» — и если заключенный полагал, что он, наконец, так остался один, что он может свободно вздохнуть, то он глубоко ошибался. «В камерах следили (*189 прим.) через стеклышко в двери, которое закрывалось снаружи железною занавескою.
Вдоль камер лежал половик, и дежурные ходили в мягких башмаках летом и в валенках зимою. К этому стеклышку — волчок — они подкрадывались каждые 5 — 10 минут. Маневры дежурных, чтобы приблизиться неслышно и поднять занавеску неожиданно, были нелепы потому, что они подглядывали через правильные промежутки, и ясно, что их предосторожности были напрасны.
Шорох, когда жандарм крадется вдоль стены, вытирая ее спиною, мешал занятиям, заставляя следить за этими проделками, поджидая их. Эти проделки возмущали, как бессмысленное дело, за которым приходится невольно следить, бессмысленное потому, что бессмысленные попытки поймать заключенного на месте воображаемого преступления ни к чему не приводили. Делая каждого из нас (писал Ашенбреннер) объектом многочисленных ежедневных наблюдений, они отлично вперед знали, кто и в какую минуту, чем занят, потому что и у нас за годы сложились свои привычки и свой неизменный домашний обиход. А между тем, при всем сознании бесполезности, нелепости и неуместности наблюдений дежурного, заключенный вместо того, чтобы спокойно продолжать свои занятия, застывает в напряженном состоянии, иногда опасаясь переменить положение тела под этими подозрительными взглядами. И когда приходится таким образом проходить многие годы сквозь строй «недреманного ока», которое тебя точит, как червь неумирающий, спрашиваешь себя, к чему им понадобилась такая утонченная пытка над людьми занятыми или больными?...
Да и накрыть нас на месте преступления было трудно; мы всегда были настороже, когда это было нужно, и умели делать свои выводы из бесчисленных наблюдений, а наш слух до того обострила тюрьма, что мы, по повадке дежурного, по множеству мелких признаков, отлично знали, кто дежурит и что делается за дверью в коридоре. Вообще мы действовали и говорили прямо и открыто, прибегая к конспирации в редких случаях, и это всего лучше сбивало их с толку. И не только говорили открыто, но умышленно подымали, например, для того, чтобы отвадить любопытных, такие разговоры, которые слушать жандармам было неудобно, и это помогало. Весьма понятно, что это проклятое стеклышко возмущало многих, и унтеров гнали от двери грубою бранью. Это помогало на время, а потом опять начиналась та же история снова, словно мы имели дело с неумолимой стихией, против которой бесполезны заклинания».
| Предыдущая страница | Следующая страница |