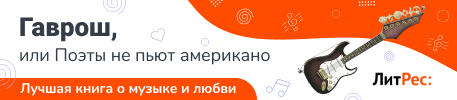Но одного «волчка» мало. Или на стене камеры или на столике заключенный видел «Правила лиц, находящихся на каторжном положении в Трубецком бастионе в Петропавловской крепости». Точно такие же правила были в Алексеевском равелине.
Впечатление от этих правил на заключенного более чем ужасное (*190 прим.): «Вам приносят правила, и вы берете их с ледяным равнодушием: странно писать правила для человека, заключенного в гробе, но вскоре они поглощают ваше внимание. Друзья, «правила» это откровение. Они без подписи. Напрасно вы поворачиваете лист на все стороны, ища подписи, ее не найти, потому что ее нет, лишь писец какой-то засвидетельствовал верность копии с подлинником. Число и год составления тоже не обозначены, и таким образом нет возможности определить, каким ветром они навеяны. Содержание: «Лица, находящиеся на каторжном положении в Трубецком бастионе Петропавловской крепости (в скобках означено: холостые мужчины), остаются четверть срока каторги, определенного им судом; лица, осужденные на бессрочные каторжные работы, остаются здесь неопределенное время, и срок нахождения для них зависит от особого распоряжения. Вышеупомянутые лица содержатся в Трубецком бастионе на общем каторжном положении. Собственные вещи у них отбираются и взамен они получают 3 рубахи, 3 пары подштанников из арестантского холста, 3 пары онуч, 2 пары котов, подбитых железными гвоздями, 1 пару штанов из арестантского сукна, подшитых холстом, 1 куртку, также подшитую холстом, халат с тремя тузами, шапку из равендукского сукна; на зиму полагается сверх того: пара суконных онуч, тулуп, доходящий до колен, шапка с ушами, завязывающимися под бородой, и лоскутом, прикрывающим затылок. Пища отпускается обыкновенная «арестантская». Но какая и в каком количестве, не перечислено. Покупка съестных припасов и лакомств на собственные деньги строго воспрещается. Также строго воспрещается курение табаку. Лица, находящиеся на каторжном положении, лишаются права пользоваться книгами из библиотеки, состоящей при бастионе. Постель состоит из войлока и подушки, набитой соломой. В примечании кто-то прибавил: «впредь до особого распоряжения, постели остаются те же, какими пользовались заключенные раньше», но это неправда, так как волосяной матрас и вторая подушка отбираются.
Заключенные вполне подчиняются администрации крепости. В случае совершения преступления они подвергаются суду, который присуждает их к наказаниям, определенным законом для ссыльно - каторжных. Соответствующие статьи закона любезно выписаны. По ним за менее важные преступления суд приговаривает к шпицрутенам до 8 тысяч ударов, к плетям до 100 ударов, розгам до 400 ударов, за проступки заключенные подвергаются административным взысканиям, и администрация крепости может присудить к содержанию в карцере от 1 до 6 дней на хлебе и воде, к плетям, но не более 20 ударов, к розгам, но не более
100 ударов. Вопрос относительно занятий заключенных еще не решен. Лица, находящиеся на каторжном положения, пользуются прогулками наравне с другими.
Надо выяснить, кто автор этих правил, чья воля в течение годов будет вас держать над медленным огнем, не давая ни жить, ни умирать. Вы звоните, и к вам с шумом врывается служитель в сопровождении жандарма. «Вы понапрасну не звоните, — кричит служитель, — мы сами знаем, когда притти. Прочитали правила?» —
«Я прочитал правила, но в них многое неясно; я желаю поговорить с смотрителем. Позовите его ко мне». — «Придет, когда будет время; сегодня или завтра, а может быть через три дня или через три недели»... Благорасположенные посетители удаляются. А зашедший затем смотритель, скажет вам, что правила введены 6 лет тому назад и одобрены в новейшее время департаментом государственной полиции и что ни он, ни комендант не имеют права, что-либо изменить...
Но когда улягутся первые впечатления, когда успокоятся несколько взбудораженные нервы, начинаешь прислушиваться (говорит Панкратов (*191 прим.). Раздаются мерные монотонные шаги — чувство величайшей радости зальет всего: это, наверно, товарищи ходят... Я не один здесь... Мрачные думы проясняются, склеп становится как бы приветливее и теплей, и так сильно желание иметь поблизости, хоть через толстую глухую стену близкого человека. За этим чувством идет другое — скорее спросить, кто тут, перекинуться хоть несколькими словами, узнать, нет ли каких связей с живым миром.
Тишина мертвая кругом, только по временам раздается тяжелый кашель то там, то тут. Воображение забегает вперед и рисует бледное измученное лицо товарища. Попробуем стучать.
Отворяется форточка, в ней показывается недовольная физиономия Ирода, на которой с первого взгляда читаешь: «Ага, попался». — «Стучать нельзя здесь, в карцер посажу!» И фортка вновь захлопывается. С какой невероятной быстротой и ловкостью проделывал он все это!
«Стучали очень тихо, повествует Волькенштейн» (*192 прим.), и старались выбирать для этого самые подходящие моменты, — например, время раздачи пищи, когда стража была занята своим делом.
Но, разумеется, несмотря на все наши предосторожности, нас ловили на месте преступления, и в таких случаях происходили самые возмутительные сцены: начинали говорить «ты», приставляли жандарма к дверному глазку, который колотил в дверь, как только слышал стук; начинались внушения: «это, мол, детская забава, — стыдно»; лишали книг, книги были, правда, все больше духовного содержания или какой-нибудь хлам, но все же они были драгоценны для тех, кто не хотел без борьбы сойти с ума, наконец, надевали даже сумасшедшую рубаху.
Буду рассказывать по порядку.
Мы тоже старались сначала действовать убеждением; говорили, что здесь все осужденные, а потому нет никакого смысла запрещать стук, доказывали, что та система, когда физически можно говорить, но приходится молчать по принуждению, равносильна пытке, и потому пусть не удивляются, что не встречают с нашей стороны послушания. Однако, эти наивные увещевания допускались нами лишь на первое время; привезенным же ранее никаких разговоров уже не полагалось. В случае стука обыкновенно врывалось в камеру несколько человек; «ты» так и сыпалось, раздавались ругательства. Если заключенный отвечал в том же роде, по знаку смотрителя на него набрасывались, валили на пол, били под предлогом сопротивления и, надев сумасшедшую рубаху, привязывали его к железной койке на несколько часов, часто вкладывая в рот деревяшку, чтобы не кричал. Соседи, услышав свалку, начинали протестовать, кричали: «Что вы с ним делаете?» Тогда накидывались на этих, вязали их. Суматоха становилась невыразимой, слышались крики, топот, свалка и хрип лежавших с деревяшками во рту. Во всех концах тюрьмы было хорошо слышно, что делалось в какой-нибудь отдельной камере.
Технику «стука» хорошо рассказывает шлиссельбуржец М. Ашенбреннер (*193 прим.): «Сначала мы стучали очень неискусно и плохо понимали друг друга, так что разговор стуком нас не удовлетворял, а скорее раздражал за невозможностью высказаться. Потом мало-помалу мы стали стучать очень быстро и отчетливо и понимали друг друга настолько хорошо, что не приходилось достукивать слово до конца; часто употребительные слова заменялись одною буквою или условным знаком. Сначала перестукивались только с соседями и стучали без всякой надобности слишком громко, но, познакомившись с тюремною акустикою, стали стучать очень тихо, для того, чтобы не беспокоить других товарищей и не вводить в беседу нежелательного свидетеля, дежурного жандарма. Громкий же стук был слышен через 2 камеры и наверху и внизу, и потому у нас бывали общие осады по разным углам. Начальство преследовало за стук, наказывало, перебивало стук всячески, между прочим, пуская в незанятой камере струю воды из крана, журчание воды заглушало стук, да и страшно раздражало нервы. Но потребность в сношении с другими была так велика, что начальству пришлось уступить».
| Предыдущая страница | Следующая страница |